За один только XX век человечество успело переболеть несколькими видами наркотиков — в начале века придумали лечить зависимость от морфина кокаином и героином, в середине века пытались найти гармонию с социумом и с собой при помощи ЛСД и барбитуратов, сегодня на тропу войны вышли вещества, повышающие эффективность и когнитивные способности. Но кроме факта, что то или иное поколение можно охарактеризовать не только с помощью «главного романа», но и с помощью наркотика, интересно узнать, что же было раньше: сначала у человека появлялось желание найти ответы на вопросы, или же эти вопросы формировал популярный наркотик того времени?
Олдос Хаксли
Мало у кого взгляды на наркотики менялись так же резко, как у Олдоса Хаксли. Родившийся в 1894 году в английской семье высшего общества, Хаксли застал «войну с наркотиками» начала XX века, когда с разницей в несколько лет были запрещены два чрезвычайно популярных вещества: кокаин, который немецкая фармакологическая компания Merck продавала в качестве средства для лечения зависимости от морфина, и героин, который для тех же целей продавала немецкая фармакологическая компания Bayer.

Олдос Хаксли
Время появления этих запретов не было случайным. В преддверии Первой мировой войны политики и газеты раздули истерию вокруг «наркоманов», чье злоупотребление кокаином, героином и амфетаминами якобы демонстрировало, что они были «порабощены немецким изобретением», как отмечается в книге Тома Метцера «The Birth of Heroin and the Demonization of the Dope Fiend» (1998).
В межвоенный период расцвела евгеника, которая звучала как из уст Адольфа Гитлера, так и старшего брата Хаксли, Джулиана, первого директора ЮНЕСКО, известного поборника евгеники. Олдос Хаксли представил, что будет, если органы власти станут использовать наркотики как бесчестные средства государственного контроля. В романе «О дивный новый мир» (1932) выдуманный наркотик сома выдавался массам для поддержания их в состоянии безмолвной радости и удовлетворенности («Все плюсы христианства и алкоголя — и ни единого их минуса», — писал Хаксли); также в книге есть несколько упоминаний мескалина (на момент создания романа не был испытан писателем и явно не был им одобрен), который делает героиню книги Линду глупой и склонной к тошноте.
«Взамен отобранной свободы диктаторские режимы будущего обеспечат людей химически вызванным счастьем, которое на субъективном уровне будет неотличимо от настоящего, — позже писал Хаксли в The Saturday Evening Post. — Погоня за счастьем — одно из традиционных прав человека. К сожалению, достижение счастья, кажется, несовместимо с другим правом человека — правом на свободу». Во времена молодости Хаксли вопрос тяжелых наркотиков был неразрывно связан с политикой, и выступление в поддержку кокаина или героина с точки зрения политиков и популярных газет означало чуть ли не поддержку нацистской Германии.
Но затем, в канун Рождества 1955 года — через 23 года после публикации романа «О дивный новый мир», — Хаксли принял свою первую дозу ЛСД, и все изменилось. Он был в восторге. Опыт вдохновил его на написание эссе «Рай и ад» (1956), и он познакомил с наркотиком Тимоти Лири, который открыто защищал и отстаивал терапевтическую пользу изменяющих сознание веществ. Со временем Хаксли присоединился к хиппи-политике Лири — идеологической оппозиции президентской кампании Ричарда Никсона и войне во Вьетнаме — во многом благодаря его позитивному опыту с такого рода веществами.
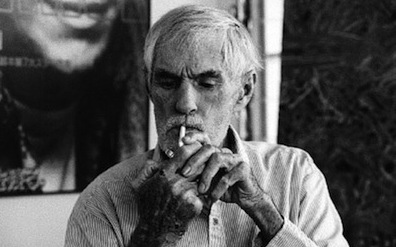
Тимоти Лири
В романе «Остров» (1962) персонажи Хаксли живут в утопии (а не в антиутопии, представленной в «О дивном новом мире») и достигают спокойствия и согласия, принимая психоактивные вещества. В романе «О дивный новый мир» наркотики используются как средство политического контроля, а в «Острове», напротив, выступают в роли лекарства.
Что может объяснить смену точки зрения Хаксли — от наркотиков как инструмента диктаторского контроля к способу избежать политического и культурного давления? В самом деле, если рассматривать вопрос более широко, почему наркотики повсеместно презирались в одно время, но восхвалялись интеллигенцией в другое? Не замечали примерно десятилетний рост популярности тех или иных наркотиков, которые едва ли не исчезают, а затем снова возникают спустя долгие годы (например, кокаина)? Помимо всего прочего, как наркотики стирали или, наоборот, создавали культурные границы? Ответы на эти вопросы добавляют красок почти всей современной истории.

Наркотики и культура
У приема наркотиков есть жесткое окно эффективности для культур, в которых мы живем. В течение прошлого столетия популярность определенных наркотиков изменялась: в 20-х и 30-х годах популярными были кокаин и героин, в 50-х и 60-х их заменили ЛСД и барбитураты, в 80-х — экстази и снова кокаин, а сегодня — улучшающие продуктивность и когнитивные способности вещества вроде аддерола и модафинила и их более серьезные производные.
Если следовать ходу мысли Хаксли, наркотики, которые мы принимаем в определенное время, могут быть во многом связаны с культурной эпохой. Мы используем и изобретаем наркотики, соответствующие нуждам культуры.
Наркотики, формировавшие нашу культуру на протяжении предыдущего столетия, вместе с тем помогают понять, что было наиболее желанным для каждого поколения и чего им больше всего не хватало. Текущие наркотики, таким образом, адресованы культурному вопросу, требующему ответа, будь то жажда трансцендентальных духовных переживаний, продуктивности, веселья, чувства исключительности или свободы. В этом смысле наркотики, которые мы принимаем, действуют как отражение наших глубочайших желаний, несовершенства, самых важных ощущений, создающих культуру, в которой мы живем.
Чтобы внести ясность: это историческое исследование касается преимущественно психоактивных веществ, включая ЛСД, кокаин, героин, экстази, барбитураты, противотревожные препараты, опиаты, аддерол и подобные, но не противовоспалительные препараты вроде ибупрофена или обезболивающие, такие как парацетамол. Последние препараты не являются веществами, изменяющими сознание, и поэтому не играют большой роли в этой статье (в английском языке и лечебные, и психоактивные вещества обозначаются словом «drug». — Прим. ред.).
Обсуждаемые вещества также затрагивают границы закона (однако запретность вещества сама по себе не мешает ему быть главным для определенного момента культуры) и класса (вещество, употребляемое низшим социальным классом, не менее культурно релевантно, чем вещества, предпочитаемые высшим классом, хотя последние лучше описаны и в ретроспективе рассматриваются как имеющие «более высокое культурную значимость»). Наконец, рассматриваемая категория веществ затрагивает терапевтическое, медицинское и рекреационное использование.

Чтобы понять, как же мы создаем и делаем популярными наркотики, которые подходят культуре времени, возьмем, например, кокаин. Широко доступный в самом начале XX века, кокаин в 1920 году был законодательно запрещен к свободному распространению в Британии, а спустя два года — в Соединенных Штатах. «Огромная популярность кокаина в конце XIX века во многом связана с его «сильным эйфористическим эффектом», — говорит Стюарт Уолтон, «теоретик интоксикации», автор книги «Out of It: A Cultural History of Intoxication» (2001). Кокаин, как сказал Уолтон, «придавал сил культуре сопротивления викторианским нормам, строгому этикету, помогая людям выступать за «все дозволено» едва зарождающейся эпохи модерна, подъема социал-демократического движения».
После того как викторианский морализм был побежден, социальное либертарианство приобрело популярность, а количество сторонников антиклерикализма резко возросло после Второй мировой войны, Америка и Европа забыли о кокаине. До, разумеется, 1980-х, когда кокаин потребовался для решения новых культурных вопросов. Уолтон объяснил это так: «Его возвращение в 80-х базировалось на прямо противоположной социальной тенденции: полное подчинение требованиям финансового капитала и биржевой торговли, что выделило возрождение предпринимательского эгоизма в эпоху Рейгана и Тэтчер».
Другой пример того, как наркотик стал ответом на культурные вопросы (или проблемы), относится к женщинам из пригородов Америки, которые в 1950-е пристрастились к барбитуратам. Эта часть населения жила в мрачных и угнетающих условиях, о которых теперь известно благодаря обличающим книгам Ричарда Йейтса и Бетти Фридан. Как Фридан писала в книге «Тайна женственности» (1963), от этих женщин ожидали, что у них «нет увлечений вне дома» и что они «самореализуются через пассивность в сексе, превосходство мужчин и заботу материнской любви». Разочарованные, подавленные и нервные, они отупляли чувства барбитуратами, чтобы соответствовать нормам, которым пока не могли противиться. В романе Жаклин Сьюзанн «Долина кукол» (1966) три главные героини стали в опасной степени полагаться на стимуляторы, депрессанты и снотворное — их «куклы», — чтобы справляться с личными решениями и в особенности с социокультурными рамками.
Но решение, которое давали препараты по рецепту, не было панацеей. Когда вещества не могут легко решить культурные вопросы периода (например, помочь американкам избежать парализующей пустоты, частого элемента их жизни), возможным вариантом нередко оказываются альтернативные вещества, часто, казалось бы, не связанные с данной ситуацией.
Джуди Балабан начала принимать ЛСД под наблюдением врача в 1950-х, когда ей еще не было и тридцати. Ее жизнь казалась идеальной: дочь Барни Балабана, обеспеченного и уважаемого президента компании Paramount Pictures, мать двух дочерей и обладательница огромного дома в Лос-Анджелесе, жена успешного агента в сфере кино, представлявшего и дружившего с Марлоном Брандо, Грегори Пеком и Мэрилин Монро. Она считала Грейс Келли близкой подругой и была подружкой невесты на ее королевской свадьбе в Монако. Как бы безумно это ни звучало, жизнь почти не приносила ей удовольствия. Ее привилегированные друзья чувствовали то же. Полли Берген, Линда Лосон, Мэрион Маршалл — актрисы, состоявшие в браке с известными кинорежиссерами и агентами — жаловались на схожее всеобъемлющее недовольство жизнью.
В условиях ограниченных возможностей для самореализации, с очевидными требованиями со стороны общества и мрачными перспективами жизни на антидепрессантах, Балабан, Берген, Лосон и Маршалл начали терапию с приемом ЛСД. Берген поделилась с Балабан в интервью журналу Vanity Fair в 2010 году: «Я хотела быть человеком, а не образом». Как писала Балабан, ЛСД предоставляло «возможность обладания волшебной палочкой». Это было более действенным ответом на проблемы современности, чем антидепрессанты. Многие культурно маргинализованные современники Балабан считали так же: известно, что в период между 1950 и 1965 годом 40 тысяч человек проходили курс терапии с применением ЛСД. Это было в рамках закона, но им не регулировалось, и почти все, испробовавшие этот подход, заявляли о его эффективности.
ЛСД отвечало нуждам не только домохозяек из пригородов, но также геев и не уверенных в своей ориентации мужчин. Актер Кэри Грант, несколько лет сожительствовавший с обворожительным Рэндольфом Скоттом и бывший мужем пяти разных женщин, примерно по пять лет каждой (в основном пока жил со Скоттом), тоже нашел избавление в ЛСД-терапии. Актерская карьера Гранта была бы уничтожена, стань он открытым гомосексуалом; как и многие вышеупомянутые домохозяйки того времени, он обнаружил, что ЛСД обеспечивало столь необходимый выход, своеобразную сублимацию мук полового влечения. «Я хотел освободиться от своего притворства», — несколько завуалированно поделился он в одном из интервью 1959 года. После посещения более чем десяти ЛСД-терапевтических сеансов у своего психиатра Грант признал: «Наконец я почти достиг счастья».
Но не всегда люди ищут препараты, способные ответить на их культурные нужды; иногда, чтобы продать уже существующие препараты, культурные проблемы создают искусственно.
Сегодня особенно популярны препараты для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) риталин и аддерол. Их повсеместная доступность привела к значительному увеличению числа диагнозов СДВГ: в период между 2003 и 2011 годом количество школьников в США, у которых выявили СДВГ, выросло на 43%. Вряд ли так совпало, что за восемь лет сильно возросло количество американских школьников с СДВГ: куда более вероятно, что к увеличению числа диагнозов привели распространение риталина и аддерола, а также грамотный маркетинг.

«В XX веке значительно возросло количество диагнозов «депрессия», а также «посттравматическое стрессовое расстройство» и «синдром дефицита внимания и гиперактивности», — пишет Лорин Слейтер в книге «Открыть ящик Скиннера» (2004). «Число определенных диагнозов растет или падает в зависимости от представлений общества, но и врачи, продолжающие навешивать эти ярлыки, пожалуй, практически не принимают во внимание критерии справочника «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам», продиктованные данной сферой».
Другими словами, современные производители лекарств способствовали созданию общества, в котором люди считаются менее внимательными и более подавленными, чтобы продать препараты, способные стать ответом на ими же созданные проблемы.
Таким же образом сферу применения гормонозаместительной терапии (ГЗТ), изначально служившей средством снятия дискомфорта во время менопаузы и в процессе которой раньше вводили эстрогены и иногда прогестероны для искусственного повышения уровня гормонов у женщин, теперь расширили и включили в нее терапию для трансгендеров и замену андрогенов, что в теории может замедлить процесс старения у мужчин. Это стремление к постоянному расширению сферы применения препаратов и необходимость в них соответствуют тому, как культура создается (и подкрепляется) современными препаратами.
Очевидно, что причинно-следственные соотношения могут быть направлены в обе стороны. Вопросы культуры могут поднять популярность определенных наркотиков, но иногда популярные наркотики сами формируют нашу культуру. От бума рейв-культуры на пике популярности экстази до культуры гиперпродуктивности, выросшей из лекарств от дефицита внимания и когнитивных способностей, — симбиоз между химией и культурой очевиден.
Но хотя наркотики могут и отвечать на запросы культуры, и создавать культуру с нуля, нет простого объяснения, почему случается одно, а не другое.
Если рейв-культура появилась благодаря экстази, значит ли это, что экстази отвечал на культурный запрос, или просто так вышло, что был экстази и вокруг него расцвела культура рейвов? Грань легко размывается.
В гуманитарных науках имеется один неизбежный вывод: распределять людей по категориям невероятно трудно, поскольку как только некой группе начинают присваивать некие свойства, люди меняются и перестают соответствовать изначально приписанным параметрам. Философ науки Иэн Хэкинг ввел для этого термин — эффект зацикленности. Люди — это «движущиеся цели, потому что наши исследования на них влияют и меняют их, — пишет Хэкинг в журнале London Review of Books. — И поскольку они изменились, их уже нельзя отнести к тому же типу людей, что раньше».
Это верно и для отношений между наркотиками и культурой. «Каждый раз, когда изобретается наркотик, влияющий на мозг и ум потребителя, он меняет сам объект исследования — людей, потребляющих наркотики», — считает Генри Коулз, доцент истории медицины в Йеле. В таком случае идея о создании культур наркотиками в некотором смысле верна, как и то, что культуры могут изменяться и создавать вакуум неудовлетворенных желаний и запросов, который могут заполнить наркотики.
Взять, к примеру, американских домохозяек, употреблявших барбитураты и прочие наркотики. Стандартное и уже упомянутое выше объяснение этого феномена таково: они были культурно подавлены, не были свободны и употребляли наркотики, чтобы преодолеть состояние отчуждения.
ЛСД и позднее антидепрессанты были ответом на строгие культурные кодексы и средством самолечения от эмоциональных страданий. Но Коулз считает, что «эти наркотики также были созданы с расчетом на определенные категории населения, и в итоге они порождают новый тип домохозяйки или новый тип работающей женщины, употребляющей эти средства, чтобы сделать возможным подобный образ жизни».
Словом, по Коулзу, «cам образ угнетенной домохозяйки возникает лишь как результат возможности лечить ее таблетками».
Такое объяснение ставит наркотики в центр культурной истории последнего века по простой причине: если наркотики могут создавать и подчеркивать культурные ограничения, то наркотики и их производители могут «на заказ» создавать целые социокультурные группы (например, «домохозяйка в депрессии» или «гедонист с Уолл-стрит, нюхающий кокаин»).
Что важно, такое создание культурных категорий применимо ко всем, а значит, даже люди, не употребляющие популярные наркотики какой-то эпохи, оказываются под их культурным влиянием. Причинность в этом деле неясна, но она работает в обе стороны: наркотики и отвечают на запросы культуры, и позволяют культурам формироваться вокруг них.
В современной культуре, вероятно, важнейший запрос, на который отвечают наркотики, — это проблемы концентрации и продуктивности как следствие современной «экономики внимания», по определению нобелевского лауреата по экономике Александра Саймона.
Употребление созданного для лечения нарколепсии модафинила, чтобы меньше спать и дольше работать, и злоупотребление другими распространенными лекарствами от дефицита внимания вроде аддерола и риталина по схожим причинам отражает попытку ответить на эти культурные запросы. Их употребление широко распространено.
В опросе журнала Nature в 2008 году каждый пятый опрошенный ответил, что в какой-то момент жизни пробовал препараты для улучшения когнитивных способностей. По данным неформального опроса The Tab 2015 года, самые высокие показатели употребления наблюдаются в лучших академических институтах: студенты Оксфордского университета принимают эти наркотики чаще, чем студенты любого другого британского университета.
Эти препараты для улучшения когнитивных способностей помогают «с двух сторон замаскировать банальность работы, — поясняет Уолтон. — Они приводят потребителя в состояние крайнего возбуждения и одновременно с этим убеждают его, что этот кайф приходит к нему благодаря успехам в работе».

В этом смысле современные популярные наркотики не только помогают людям работать и делают их продуктивнее, но и позволяют им все больше ставить свою самооценку и счастье в зависимость от работы, укрепляя ее важность и оправдывая затраченные на нее время и усилия. Эти наркотики отвечают на культурное требование повышенной работоспособности и продуктивности не только тем, что позволяют потребителям лучше концентрироваться и меньше спать, но и тем, что дают им повод гордиться собой.
Обратная сторона культурного императива продуктивности отражается в запросе на повышенное удобство и простоту отдыха в повседневной жизни (вспомните Uber, Deliveroo и т. д.) — желание, удовлетворяемое псевдонаркотиками сомнительной эффективности вроде «бинауральных ритмов» и других изменяющих создание звуков и «наркотиков», которые легко найти в интернете (в случае бинауральных ритмов вы можете послушать мелодии, которые якобы вводят слушателя в «необычное состояние сознания»).
Но если современные наркотики в основном отвечают на культурные запросы экономики внимания — концентрация, продуктивность, отдых, удобство, — то они так же изменяют понимание того, что значит быть собой.
В первую очередь то, как мы теперь потребляем наркотики, демонстрирует сдвиг в понимании самого себя. Так называемые «волшебные пилюли», принимаемые ограниченное время или разово для решения конкретных проблем, уступили место «постоянным наркотикам», например антидепрессантам и таблеткам от тревожности, которые нужно принимать постоянно.
«Это значительный сдвиг по сравнению со старой моделью, — говорит Коулз. — Раньше было так: «Я Генри, я чем-то заболел. Таблетка поможет мне снова стать Генри, и потом я ее принимать не буду». А теперь так: «Я Генри только тогда, когда пью свои таблетки». Если посмотреть на 1980-й, на 2000 год и на наше время, доля людей, потребляющих такие препараты, все растет и растет».
Возможно ли, что постоянные наркотики — это первый шаг в потреблении наркотиков, позволяющий достичь постчеловеческого состояния? Хотя фундаментально они не меняют нашей сути, как понимает любой, кто ежедневно пьет антидепрессанты и другие неврологические лекарства, наши важнейшие ощущения начинают будто притупляться и затуманиваться. Быть собой — значит быть на таблетках. Будущее веществ может пойти в эту сторону.
Здесь стоит оглянуться назад. В прошлом веке между культурой и наркотиками существовала тесная связь, взаимодействие, демонстрирующее культурные направления, в которых хотели двигаться люди, — бунт, подчинение или полнейший выход из всех систем и ограничений. Внимательный взгляд на то, чего мы хотим от сегодняшних и завтрашних наркотиков, позволяет нам понять, какие культурные вопросы мы хотим решить. «Традиционная модель наркотика, активно совершающего нечто с пассивным потребителем, — говорит Уолтон, — с большой вероятностью сменится веществами, позволяющими потребителю быть чем-то совершенно иным».
Конечно, возможность с помощью наркотиков полностью убежать от себя осуществится в той или иной форме в относительно короткий срок, и мы увидим новые культурные вопросы, на которые наркотики потенциально смогут ответить и которые сами же задают.
Закономерности потребления наркотиков в прошлом веке позволяют нам с поразительной точностью взглянуть на обширные пласты культурной истории, в которой все, от банкиров с Уолл-стрит и подавленных домохозяек до студентов и литераторов, принимают наркотики, отражающие их желания и отвечающие на их культурные запросы. Но наркотики всегда отражали более простую и постоянную истину. Иногда мы хотели сбежать от себя, иногда — от общества, иногда — от скуки или бедности, но всегда мы хотели сбежать. В прошлом это желание было временным: зарядить батарейки, найти убежище от переживаний и жизненных потребностей. Однако в последнее время потребление наркотиков стало означать стремление к длительному экзистенциальному побегу, и это желание опасно граничит с саморазрушением.
